Photo by fish-archpro
Лидерская программа «Архитекторы.РФ» дает возможности для развития разнопрофильных специалистов в сфере городского развития: как в части повышения насмотренности и прокачки навыков, так и в части плотного взаимодействия со специалистами из других сфер и разработки совместных реальных проектов. Эта программа в том числе дает возможности получить новые и развить существующие компетенции именно в работе с историческим наследием, о чем поделились ее выпускники, на сессии платформы Урбан Хаб ПМЭФ-2025.
«Сайт-проект UralRuin нашего архитектурного бюро возник без малого пять лет назад, как инструмент активации выключенных территорий. Он, на самом деле, про девелопмент, про строительство и про способы и методы территориального развития, - рассказывает руководитель архитектурного бюро FISH, автор проекта UralRuin Артур Ларионов. - Сошлюсь на пример нашей двухлетней работы в селе Маминское Свердловской области, что в 90 километрах от Екатеринбурга. Поселение основано в 1682 году, там сейчас проживает 1200 человек. Конкретно наша деятельность была развернута в связи с тем, что на этой территории находится храм Архангела Михаила за авторством архитектора Константина Тона. То есть это довольно уникальный прецедент, когда такой храм был построен в глубинке на Урале. В целом, у села была довольно большая история с наследием, связанная с тем, что там раньше добывали золото, была очень зажиточная, мягко говоря, деревня, и даже рядовой крестьянин мог себе построить каменный дом. Правда, очень большое их количество сейчас руинировано. А ведь у нас много таких территорий, которые потенциально могут быть интересны, но про них мало кто знает и непонятно, что с ними сделать.
Перезапуск исторических объектов, с продолжительными периодами реконструкции и реставрации, довольно затратное дело, но мы видим возможность создания новых точек притяжения, и потому проектируем туристические мастер-планы, и здесь отдельно выделяю важный тезис - опытным путем. То есть это работа непосредственно на территории с вовлечением, глубоким погружением в жизнь населения. По сути, мы раскрываем потенциал таких спящих или выключенных территорий.
Был разработан формат, тоже всем очень понятный, знакомый, это субботники, когда мы объединяем одну группу людей с другой группой людей вокруг того, чтобы можно было взаимодействовать. И это все превращается в то, что некоторые объекты могут становиться ленд-артом.
Мы привозили людей из соседних районов, что позволило им легко воспринимать территорию через переосмысление современного искусства. Далее – появилась возможность классно организовать там какое-то крупное массовое событийное мероприятие, в частности фестиваль, народный праздник, выставку и т.д. Все это тоже вписывается в историю развития территории, то есть она активируется, хорошо прогревается, повышается ее информированность и медийность. В прошлом году мы обозначили некий маршрут, где каждый объект рассредоточен, со своей систематикой расположения, допустим, у берега реки или ее пойме, интересного места, и теперь там проходит пешеходный маршрут, а вскоре заработает и веломаршрут, который называется велоруин. В рамках последнего определены резиденции по насыщению участков арт-объектами, и там работают местные жители, то есть они сами придумывают, создают макеты, воплощают свои идеи собственными руками.
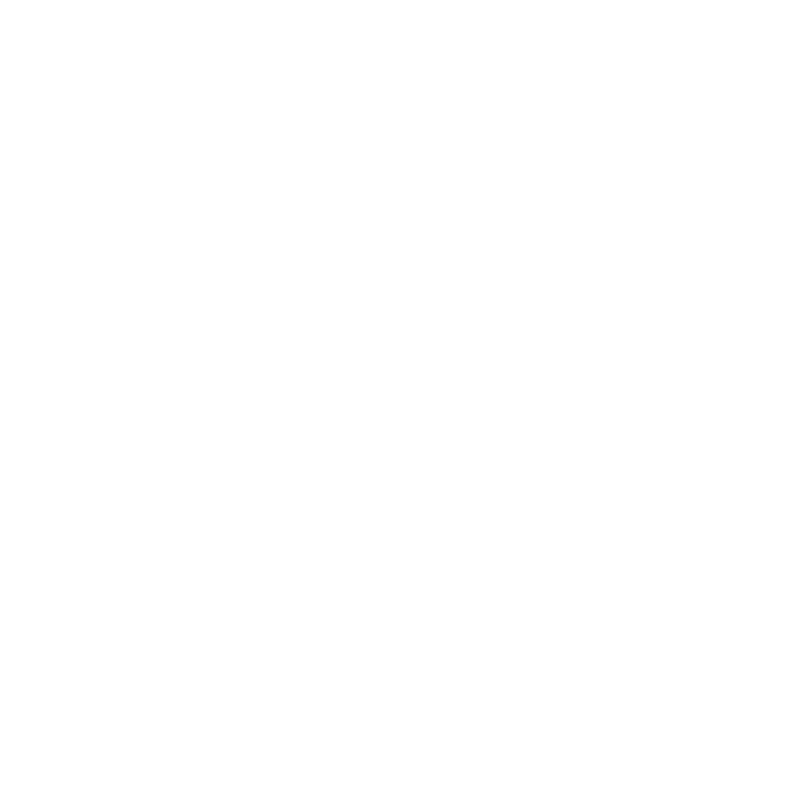
Артур Ларионов
Руководитель архитектурного
бюро FISH, автор проекта UralRuin
По сути, мы раскрываем потенциал таких спящих
или выключенных территорий.
Результат, пусть и предварительный: возведено 7 арт-объектов, 8 музыкальных площадок, разработано 6 туристических маршрутов, каждое наше мероприятие посещает в среднем 1700 человек, и резиденция - это всегда 40 человек, это довольно большой палаточный лагерь. Мы смогли организовать туда трафик, а это дополнительно 440 человек в сезон, а еще около 700 туристов приезжают в составе групп. В связи с оживлением места, там открылся туристско-информационный центр, организовался велопрокат, открылось кафе, предприниматели из областного центра начали развивать бизнес.
К слову, на следующий год мы планируем работать уже с другими территориями, и я уверен - все получится!».
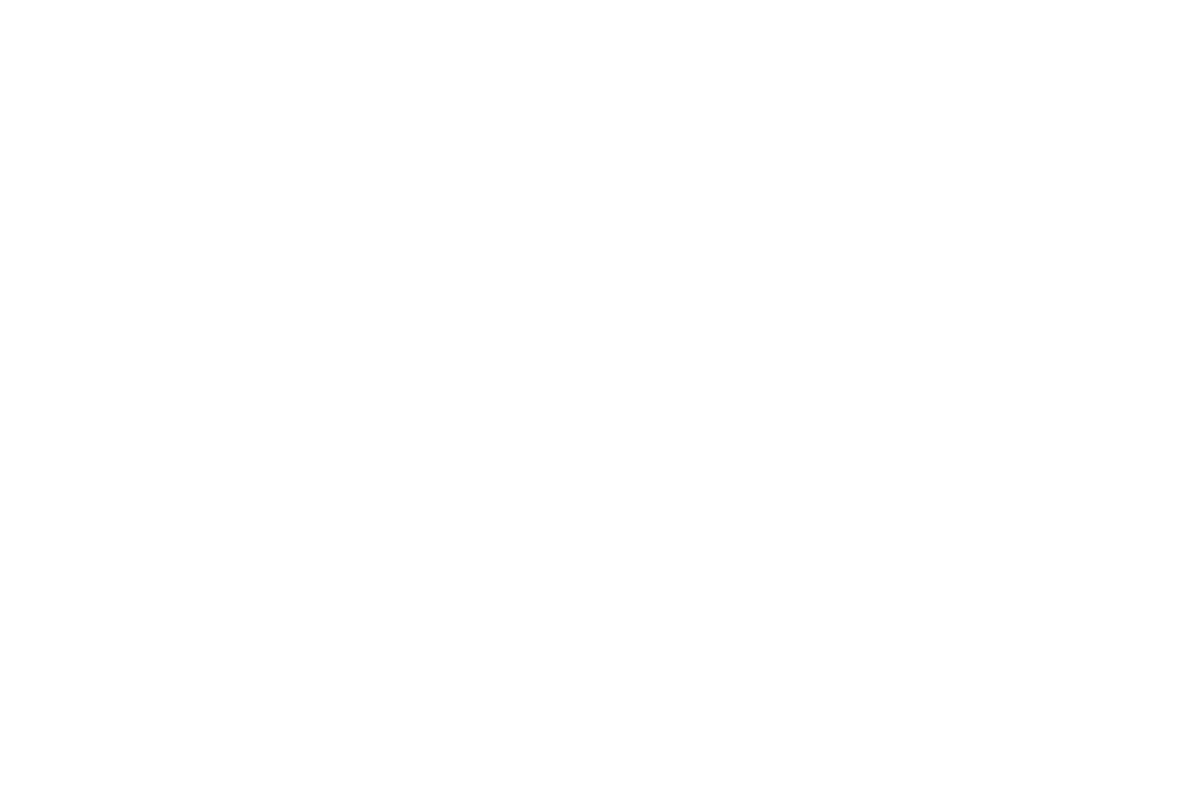
Photo by fish-archpro
Проблема вымирания деревень, как и во всей стране, стоит очень остро и в Ульяновской области, где численность сельского населения за последние 10−12 лет сократилась на 30 процентов и безвозвратно потеряны около 40 населенных пунктов. Любой проект завязан на каком-то конкретном человеке. История со спасением наличников в Ульяновской области связана с директором АНО «Кластер творческих индустрий», руководителем Дирекции Фонда креативных индустрий Ульяновской области Кириллом Валовым. «В регионе 180 объектов культурного наследия, находящихся на малых территориях, т.е. в сельской местности. Понятно, что 99,9% из них относятся к деревянной архитектуре и с ними никто не работает, их никто не спасает, - говорит Кирилл. - Влияет антропогенный фактор - это когда есть живое село, а жители меняют свои окна на пластиковые, а дома обшивают сайдингом, тем самым уничтожают уникальность деревянной архитектуры и просто такую красоту распиливают на наших глазах. И, конечно же, происходит само вымирание сел, приход их в заброшенное состояние. Вот с такими объектами, при этом сохранившими уникальные наличники, мы в своем проекте и работали, и согласовывали через администрации и через владельцев этих жилых домов по всей области. В коллекцию за полтора года вошло 44 наличника. На этом этапе реализации проекта мы собрали большую команду волонтеров из 277 человек, организовали экспедиции, выявили почти 1200 наличников, провели согласование на вывоз и отправили 575 наличников в администрации различного уровня, из 120 нам утвердили 83 для проведения работ и к моменту открытия музея в прошлом году были выставлены эти самые 44 отреставрированных и восстановленных экспоната, что стало крупнейшей подобной экспозицией в стране.
Когда я написал проект уникального и крупнейшего музея под открытым небом «Наличники Симбирского-Ульяновского края», нас с первого раза с очень высоким проходным баллом поддержал Фонд президентских грантов.
Человеку, который как-то не сильно связан с деревянным зодчеством, наверняка не причисляет наш регион к обладателям богатого наследия именно таких строений, однако проведенная работа показала обратное. Первые экспонаты музея отличаются стилевым разнообразием, вобрали в себя неповторяющиеся истории, там нет наличников с одного дома либо типовых, похожих друг на друга. И мы эту коллекцию будем потихоньку пополнять.
Раз мы заявили амбицию крупнейшего музея, мы ее подтвердили не какими-то документами и так далее, но нам нужно было, в том числе и имиджево, эту тему как-то немножко покачать, чтобы о нас узнала вся страна. Открытие нашего музея мы ознаменовали началом фестиваля современного искусства и зодчества «Окна», который в итоге посетило больше 10 тысяч человек, широко освещали в том числе федеральные телеканалы.
На следующий год мы придумали коллаборацию с современными художниками и проект назвали «Искусство в наличниках», где в рамах нашей коллекции наличников будут выставляться живописные работы.
Создан огромный каталог оцифрованных наличников по всем муниципалитетам области. Это, так скажем, в 20 раз больше коллекции, представленной в живом музее. По поводу реставрационных работ. Полноценная, стопроцентная реставрационно-восстановительная работа одного скромного наличника стоит от двухсот тысяч рублей.
Но музей заявлен, как площадка под открытым небом. Стало быть, даже после проведения основных базовых моментов по поводу фиксации, восстановления утраченных элементов, приведения в первозданную цветовую палитру и т.д. для сохранности наличников и их дальнейшей продолжительности жизни предстоит периодически проводить определенную ревитализацию, к чему надо быть готовыми».
«Наша практика в основном локализуется на Урале и связана с такими большими, крупными инициативами в этой области, - продолжает креативный продюсер программы арт-резиденций Уральской индустриальной биеннале Анна Акимова. – Начинали мы пятнадцать лет назад, когда в 2010 году в Екатеринбурге в Белой башне запустилась первая индустриальная биеннале современного искусства. За это время она выросла в крупнейший проект в России, который работает с промышленным наследием через теги культуры, искусства, исследований. Был сделан очень очевидный ход, ведь Урал в том числе и воспринимается как промышленный регион. Правда, тогда мысль о том, что культура и искусство могут зайти на территорию действующих предприятий и создать что-то внутри их, была довольно инновационной. То есть мы работали и с условно руинированными или недействующими объектами, и, чем мы особенно гордимся, с производственной площадкой, где ведутся работы.
В целом заводская территория, исторически была центровой для города-завода, то есть на Урале, как правило, город строился и развивался вокруг предприятия. И когда произошли сокращения горожан, которые заняты на производстве, возникла закономерная отчужденность между этими звеньями - архитектурными и смысловыми доминантами городской территории. Появилась некая дистанция, людям было непонятно, что там происходит за заводским забором, в каком состоянии любимые цеха, участки.
Биеннале предоставила возможность эту дистанцию преодолеть и осмыслить, как уже в постиндустриальном обществе мы можем взаимодействовать с этими объектами.
Долгое время пустовавшая гостиница «Исеть» стала основной площадкой выставки в 2015 году, и все ее девять этажей были заняты произведениями современных художников. Каждый раз активно используется новый объект, требующий более пристального к себе внимания. Будь то цеха «Уралмаша», других заводов, действующие градирни. На базе биеннале мы расширили географию, предварительно посетив тридцать городов Уральского федерального округа, и запустили программу арт-резиденций и арт-индустриальных маршрутов внутри малых городов. Их уже более десяти и таким образом - через призму индустриальности – мы знакомим с их историей.
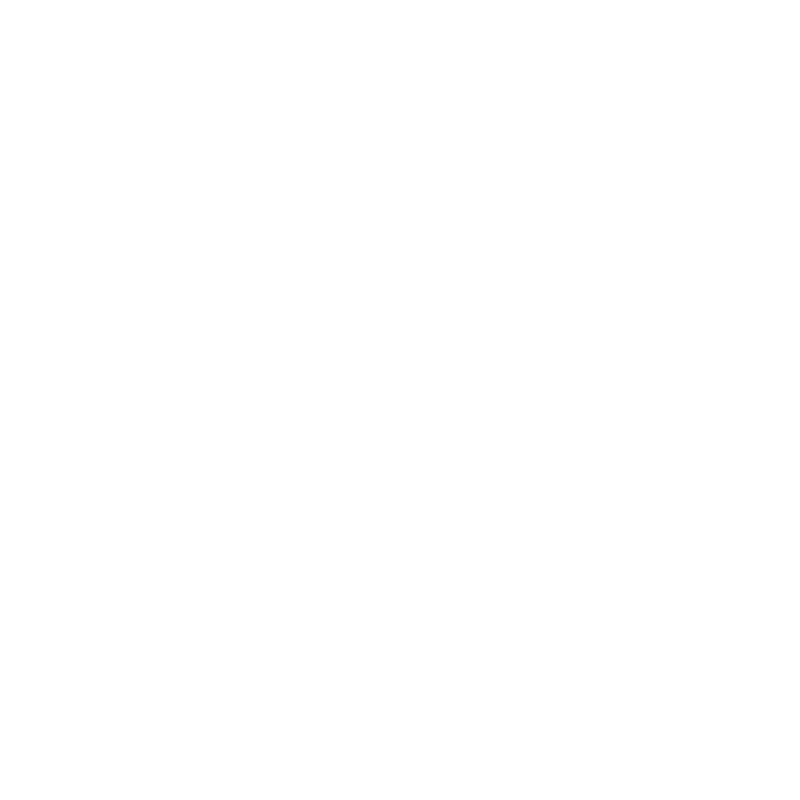
Анна Акимова
Креативный продюсер программы
арт-резиденций Уральской
индустриальной биеннале
Биеннале предоставила возможностью эту дистанцию преодолеть и осмыслить, как уже в постиндустриальном обществе мы можем взаимодействовать с этими объектами.
На наш взгляд, музеефикация - это довольно тривиальный подход к наследию. К счастью, он как-то преодолевается. Есть новые сценарии работы, свежая, очень актуальная практика. И чем больше у нас партнеров, чем больше мы объединяемся, проявляемся на уровне каких-то больших программ, тем лучше нашему объекту, нашему месту и вообще нашей идее».
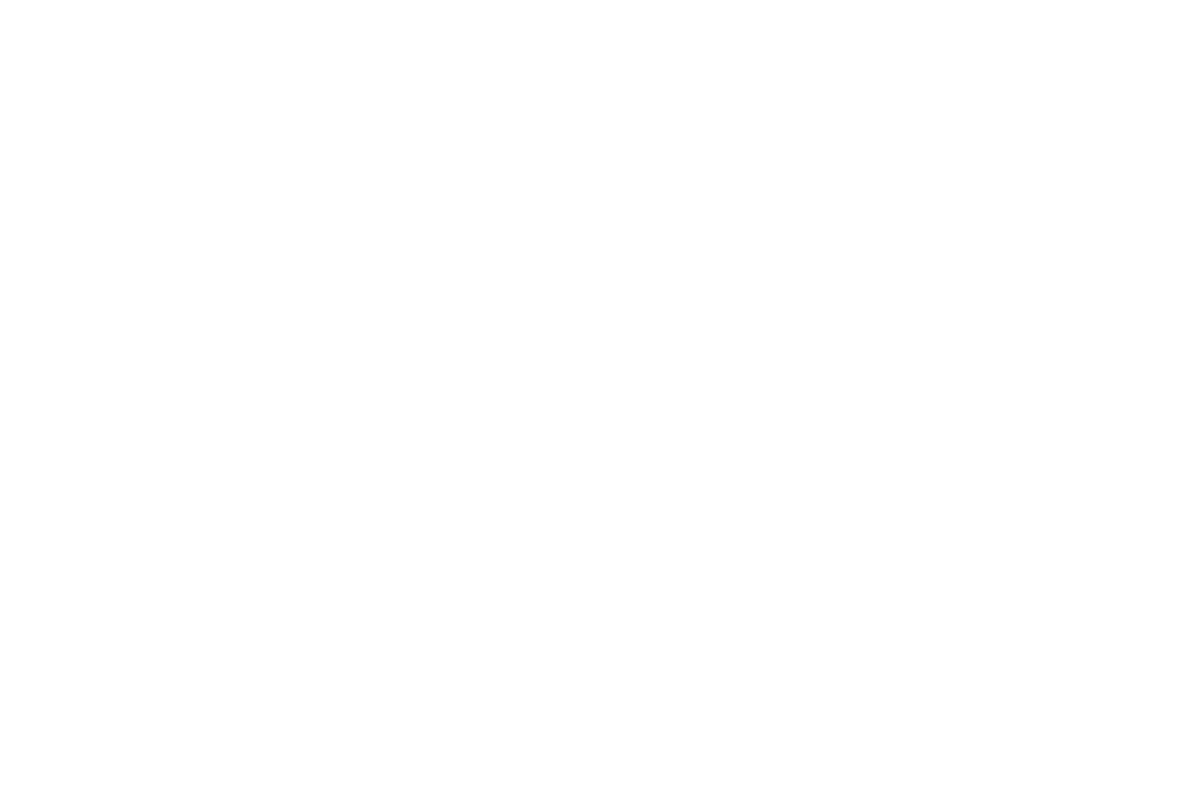
Photo by uralcult.ru
«В рамках программы «Архитекторы РФ» в прошлом году мы вели работы с советским наследием. Очевидно, что выросло уже несколько поколений молодых людей, для которых оно не является органичной частью жизни, это что-то из прошлого, из другой эпохи, и, конечно же, они формируют новый запрос на изучение этого периода, предпринимают определенные шаги на его сохранение, - говорит заместитель генерального директора Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга Екатерина Холоднова. Сейчас «Орленок» - это Всероссийский детский центр, крупнейший из сохранившихся объект советского модернизма, где яркая сложная архитектура великих зодчих образует целый город. С ним работала междисциплинарная команда, в состав которой вошли специалисты разных профессий из многих регионов. Изучали экономику, педагогику, определяли тренды в современной архитектуре. Как связан «Орленок» с Санкт-Петербургом, тогда еще Ленинградом? Во-первых, над генеральным планом лагеря работали крупнейший в стране советский институт «ЛенГИПроГор», а также мастерская Л.Ю. Гальперина из Ленинградского институт экспериментального проектирования жилищно-гражданских зданий («ЛенЗНИИЭП»). Важной частью образовательной среды стала уникальная педагогическая методика, которую позже назовут нетоталитарной воспитательной практикой и которая до сих пор сохранилась в «Орленке», продолжает жить в разных учреждениях страны, тоже пришла из Северной столицы.
В результате выросла целая плеяда талантливых педагогов, так называемое «фрунзенское коммунарство» поставило во главу угла коллективные творческие дела, когда дети обладают самостоятельностью, становятся ответственными наравне со взрослыми, ведут работу в рамках смены, обсуждают и планируют повестку на каждый день, реализуют намеченное. Всё это мы увидели в круглогодичном объекте «Орлёнок», где отдыхает и учатся 20 тысяч детей.
И несмотря на то, что ему в июле этого года исполнилось 65 лет, главным результатом нашего исследования стало то, что архитектура очень современна, вбирает в себя многие тренды мировой и российской детской архитектуры.
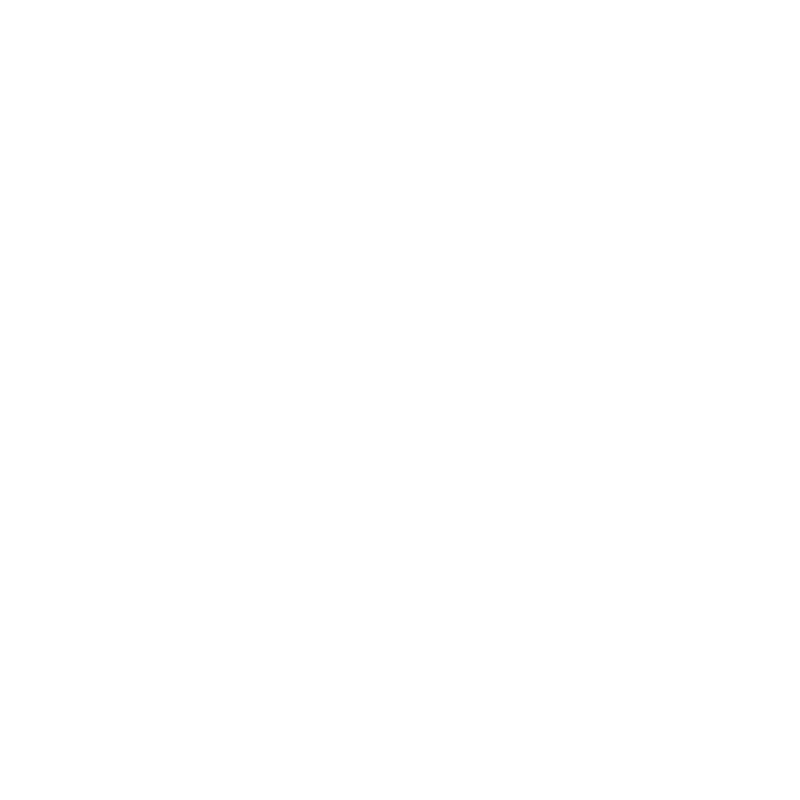
Екатерина Холоднова
Заместитель генерального директора
Фонда поддержки инноваций и
молодежных инициатив Санкт-
Петербурга
Сейчас «Орленок» - это Всероссийский детский центр, крупнейший из сохранившихся объект советского модернизма, где яркая сложная архитектура великих зодчих образует целый город.
С одной стороны, это поднимает вопрос о маршрутизации его сохранения, а с другой - открывает большие возможности для реконструкции. Очень рассчитываем на то, что в этом году такой процесс запустится, так как уже есть регламент по всем вопросам, в том числе научной реставрации, мастер-планирования, развития сопредельной территории, определен объем инвестиций. То есть это точно масштабный комплексный проект».
«Признаки ценности объектов культурного наследии передаются из поколения в поколения и общество будет восстанавливать их в первую очередь, - рассуждает руководитель отдела общего администрирования и организации мероприятий Фонда «ДОМ.РФ» Мария Головенкина, - Вне зависимости от того, что перед нами памятник, ансамбль или какое-то достопримечательное место, их объединяет одно - определенный контекст, который можно поделить на городской и природный. Поэтому подходы к обустройству пространства в зависимости от типа объекта, от типа контекста будут различаться. Если говорить про городской контекст, то объекты наследия в нем играют важную роль с точки зрения формирования образа города, ментальных карт. Ну и, конечно, основной задачей при работе с благоустройством у таких объектов является повышение их видимости в городской среде. Для того, чтобы эту видимость подсветить, повысить, один из мощнейших инструментов - это дизайн-код. Ну и, конечно, внедрение положения этого дизайн-кода в регламентирующие документы того или иного муниципалитета города. Рассматриваются при этом две основные ситуации, когда идёт сначала реставрация объекта культурного наследия и только после этого благоустройство территории, либо наоборот - объекты наследия ждут своего часа пока идет благоустройство.
Но в обоих случаях очень важно формировать рекомендации для следующего шага, чтобы в процессе развития городской среды сохранять преемственность в условиях, когда, как это часто бывает, планы по реставрации и благоустройству расходятся во времени. Ну и, конечно же, должна быть продумана стадия эксплуатации, чтобы управляющая компания сохранила задумку, не исказила вид объекта наследия.
В природном контексте работают совершенно другие подходы. Часто такие территории находятся в зонах охраны ландшафта или просто вблизи природных территорий.
Там должен работать принцип минимального вмешательства, и в проектную работу включить ряд вопросов: сколько времени нужно для прогулки, для осмотра объектов, чтобы определить, сколько сотрудников будет пребывать на территории, рассчитать конфигурацию обустройства пешеходных троп, которые минимально внедряются в среду, ну и, конечно, места и размеры смотровых площадок и вышек, амфитеатров, лестниц и пандусов. Это нужно, в общем-то, и для комфорта, и для того, чтобы объект наследия дольше сохранился во времени».
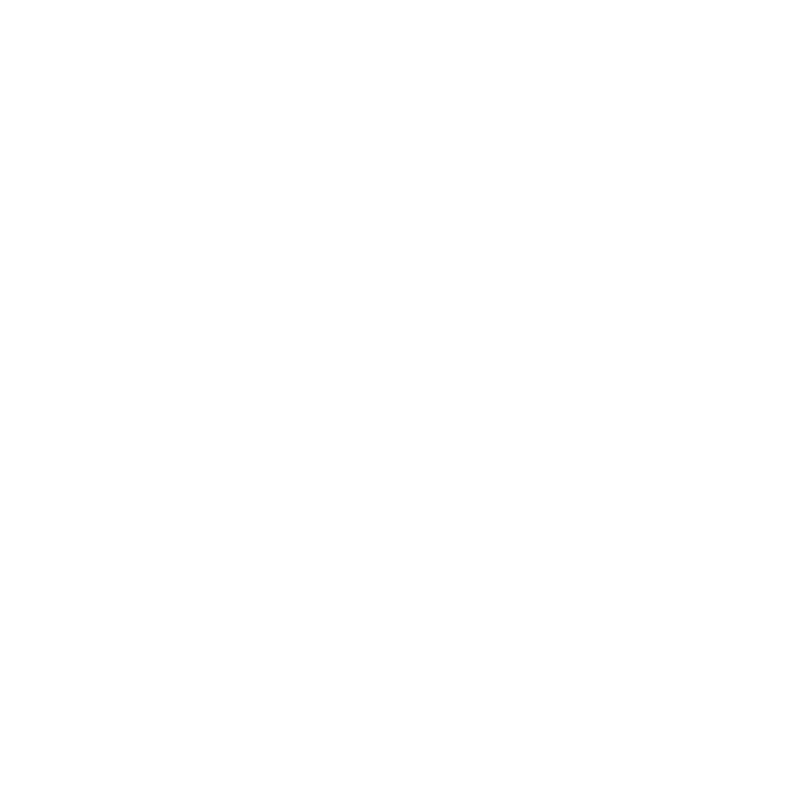
Мария Головенкина
Руководитель отдела общего
администрирования и организации
мероприятий Фонда «ДОМ.РФ»
«Когда мы занимаемся проектами приспособления наследия, мы все время говорим о том, что у нас есть какой-то бесконечный конфликт кого-то с кем-то - администрации с жителями, архитекторов с реставраторами, социологов с архитекторами и так далее. То есть это процесс, в котором разные группы специалистов пытаются найти какие-то точки соприкосновения для того, чтобы получить наилучший результат. И мы с коллегами решили провести открытое исследование для того, чтобы понять, а сколько вообще специалистов работает в этой сфере, и какие оптики они имеют, - рассказывает руководитель архитектурной мастерской компании «Брусника» в Санкт-Петербурге, со-куратор исследовательского проекта «О НАСЛЕДИИ» Анна Руденко. – Проект «О НАСЛЕДИИ», со-куратором которого я являюсь, предпринял попытку в первую очередь наладить процесс коммуникации. Мы решили померить вообще температуру по больнице и на данный момент мы собрали 100 человек, которых считаем визионерами, транссеттерами в теме наследия совершенно разных областей и провели с ними глубинные интервью. Цель: определить и выстроить некий идеальный процесс того, как проходит вот эта практика сохранения наследия. Потом у нас произведены прикладные исследования, когда уже подключились более профессиональные группы специалистов. Учли положения 73-го федерального закона и многих других законодательных актов. Рассмотрели вопросы моделирования, это когда заговорили уже про экономику, про объект в городской среде, про его функциональность, про туристические потенциалы и так далее. Включили тему популяризации и поддержки существования объекта в СМИ, медиа-ресурсами. На самом деле, за каждым из этапов стоит определенная группа специалистов. И наследие проявилось как многогранный ресурс, имеющий свою последовательность и преемственность.
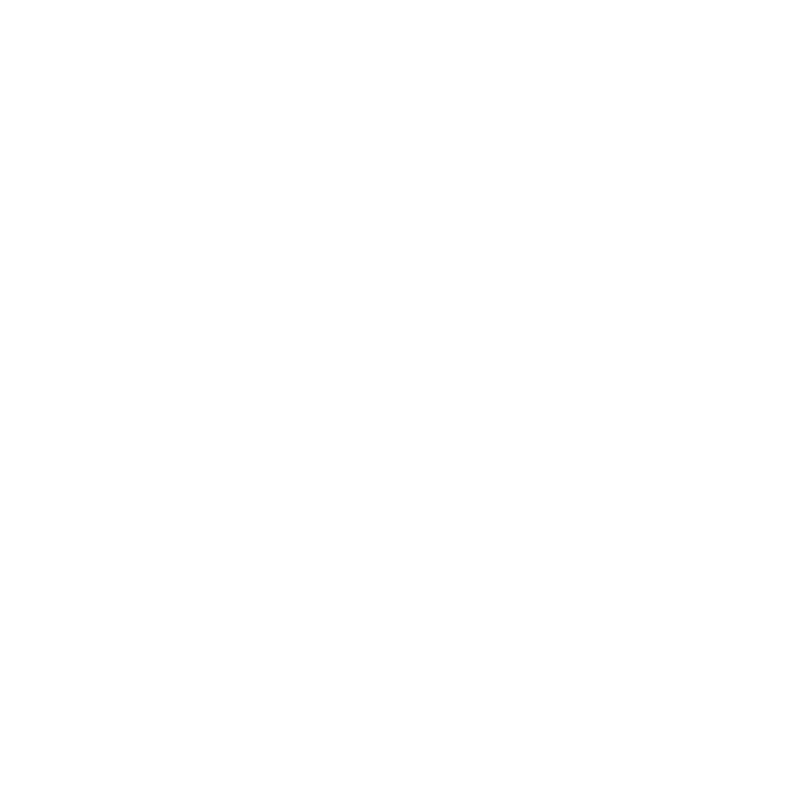
Анна Руденко
Руководитель архитектурной
мастерской компании «Брусника» в
Санкт-Петербурге, со-куратор
исследовательского проекта
«О НАСЛЕДИИ»
Когда мы занимаемся проектами приспособления наследия, мы все время говорим о том, что у нас есть какой-то бесконечный конфликт кого-то с кем-то - администрации с жителями, архитекторов с реставраторами, социологов с архитекторами и так далее.
Сейчас, когда я погружаюсь в это исследование, я понимаю, что это архи больше, и в этом бесконечное количество смыслов, которые, в общем-то, и формируют нас как личностей, как нацию, отличающуюся от всех остальных.
Мы понимаем, что производим качественный переход смысла. То есть наследие - это некое материальное воплощение совершенно определенных наборов ценностей, наборов социальных групп, которые необходимо передать будущим поколениям как информацию в первую очередь о себе, а дальше уже о своем прошлом».





